Старик громко расхохотался, пустил по кругу кувшин с пивом и провозгласил тост за осьминога, который мы радостно поддержали. Спрут в этот момент снова зашевелился, что сообщило кораблю до неприятности странное и неровное колебание. Я взглянул в кормовой иллюминатор, размышляя об идее успеха: «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится» [78], как говорит нам Библия, и это явно правда. Сэр Гилберт вернется из своего путешествия с двойным успехом. Имя Фробишера-старшего окажется запечатленным на скрижалях истории, а когда всё будет сказано и сделано — если глубоководный исполин, конечно, останется жив-здоров, — его вес нетто будет побольше, чем у самой королевы.
Еще дядя Гилберт открыл нам, что все мы получим долю прибыли, когда реальный доход от путешествия будет подсчитан, так что блаженствующая часть моего мозга сейчас обдумывала, как мы с Дороти распорядимся нашим новообретенным богатством.
Однако потом я отмел эту мысль, как несвоевременную или даже неуместную. Утро меня порядком измотало, и скоро я стал уставать от нескончаемого благодушия Гилберта Фробишера. Как ни глупо это звучало, меня волновало, не умрет ли наш головоногий исполин от простого сердечного приступа, несмотря на свою жизнеспособность и видимое здоровье. Янтлет-Крик, подумалось мне, станет печальной тюрьмой для такого интереснейшего существа. Я мысленно взывал к Господу с просьбой вмешаться в ход событий и дать нам время собрать все сокровища нашего пленника в колокол, чтобы они дарили ему радость, когда он будет влачить оставшиеся дни в заключении.
Увы, ничего уже поделать было нельзя. Еще задолго до заката остров скрылся за горизонтом, хотя багровые облака, громоздившиеся над ним, оставались различимы до той поры, пока их не поглотила ночь.

ЧАСТЬ 3
РАДОСТНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
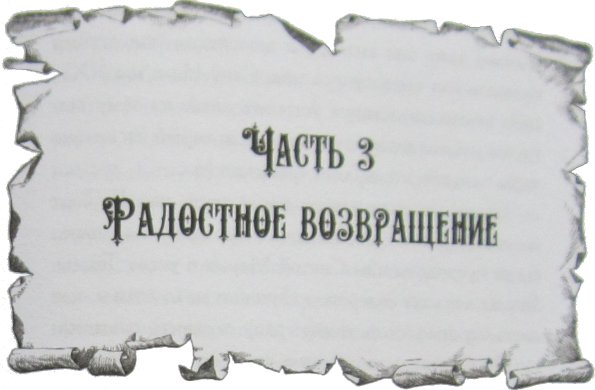
ГЛАВА 8
НИЗКИЕ ВОДЫ ТЕМЗЫ
Двумя неделями позже мы снова оказались в Вест-Индских доках. В отдалении набирал силу шторм, над горизонтом клубились дождевые тучи, и свежий восточный ветер нес их в нашу сторону. Но пока что в разгаре был летний полдень, чайки вились в небе, и огромный город оставался веселым и приветливым. Был отлив, тинистые берега Темзы обнажились и сверкали в кратком прояснении. «Болотные ласточки» всех возрастов рылись в грязи, надеясь отыскать потерянные монеты, но в основном откапывая кусочки угля и железа, инструменты, случайно выроненные рабочими за борт судна — труд, приносивший им за день изнурительной возни по несколько шиллингов. Однако даже они выглядели живописно под летним солнцем, или так казалось мне. Сент-Ив и мы с Хасбро весело согласились устроить совет на тему выгрузки нашего дивного пассажира, который несколько часов назад был жив, хотя тревожно вял.
Спрут затаился вскоре после того, как Гилберт по совету Сент-Ива отключил промывочные насосы на проходе залива Святой Марии в устье Темзы. Речная вода тут содержала слишком мало соли и, как опасался профессор, могла сразу отравить осьминога. Он не владел знаниями о физиологии гигантских спрутов, но лучше было перебдеть по части предосторожностей. Движение вверх по течению к Лондону замедлилось, судов прибавилось, вода уходила. Сейчас исполин был непривычно тих, как и его владелец, теребивший стетоскоп на шее, возможно обдумывая оптимальный способ действий при обнаружении шеститонного зловонного мертвого цефалопода — как расчленить его и выгрести через грузовой люк.
Перенос съемного трюма на баржу и буксировку ее вниз по реке до Янтлет-Крик следовало совершить с величайшим искусством. Гилберт предложил вознаграждение в три фунта всем и каждому, кто возьмется за выгрузку, если это будет сделано за сорок минут. Для извлечения трюма и перемещения его на баржу мы решили использовать огромный консольный кран Вест-Индских доков, и действо это уже началось: катер с колоколом на палубе был убран с крышки люка бортовым краном. Ученые друзья Гилберта встретят Фробишеров по прибытии баржи на место, где судно предполагается установить так, что получится запустить насосы и снова омыть осьминога живительной соленой водой.
Корабельный плотник упаковал шар амбры в бутафорский деревянный ящик с надписью «Сомерсет Плейерс: подсветка». Как только баржа отплывет, Сент-Ив и мы с Хасбро сопроводим ящик до Треднидл-стрит, где вручим его охране Банка Англии для помещения в подземное хранилище. Я жаждал поскорее избавиться и от этой амбры, и от спрута и пообедать дома с Дороти в два часа дня. Я уже предвкушал счастливое изумление на ее лице, когда войду, загоревший дотемна после всех недель в открытом море.
Ящик с амброй сейчас стоял на палубе, накрытый декоративной тканью. Гилбертов графин-баккара и несколько стаканов — на ней. Старый Лазарус Маклин выдумал длинные транспаранты по случаю возвращения домой, скроил и сшил их в форме осьминогов, державших друг друга за щупальца, — двенадцать футов всего этого художества висели на борту. Свободные конечности головоногих бодро хлопали на бризе. Маклин оказался обладателем многих талантов, и сейчас он стоял в своем килте и тэм-о-шентере [79], баюкая волынку и готовясь заиграть, как только Гилберт начнет сходить с корабля.
Большой кран, установленный точно посередине между Южным и Экспортным доками, запыхтел паром и угольным дымом, выдавая мощную какофонию хрипа, скрипа и лязга. Он натянул витой стальной канат, сцепленный с огромными болтами на четырех углах трюма, и контейнер медленно явился нашим взорам, а мы все задержали дыхание. Толпа, собравшаяся ради чистого развлечения, не представляла себе, что содержится в этой емкости и чего ни в коем случае ей не следовало показывать.
Гилберт махал зевакам со своего места на фордеке, подогревая их внимание. История писалась крупными буквами — если бы они только знали!.. Стальной куб полз вверх, величаво раскачиваясь. Он проплыл над доком и стал спускаться на баржу, пришвартованную напротив. Когда контейнер оказался на месте, судно, которому надлежало его транспортировать, просело на полные два фута, на корме — еще больше, палубу почти залило. Лазарус Маклин задудел воодушевляющую версию «Темнокудрой девы», и наша полудюжина, включая Фиббса и самого волынщика, опрокинула по порции виски и швырнула свои стаканы через борт на берег Темзы, к нежданному счастью «болотных ласточек». Оба Фробишера — Табби в неизменном боллинджере, перья сияли на солнце, — спустились в док и взошли на баржу. Табби повернулся и театрально помахал нам на прощание. А Гилберт прошел прямо к стенке огромного ящика и прижал к ней раструб своего стетоскопа, напряженно вслушиваясь. Горестно покачав головой, он тронул ладонью стенку, что без сомнения означало — сталь нагревается под ярким солнцем, будто печка. Он сказал что-то резкое экипажу баржи, немедленно отдавшему швартовы, ибо моряков так же волновала награда, как Гилберта желание возродить силы осьминога. Судно резво тронулось, буксир потащил его в Лаймхауз-Рич и дальше, вниз по реке.
Теперь грозовые тучи быстро нагоняли нас, и можно было видеть темные полосы сильного ливня, обрушившегося на реку и земли вдали. Зрелище было примечательное: день, в соответствии с метафорой, разделялся на тьму и свет. Подстегнутые надвигавшейся непогодой, мы подхватили свой багаж и загрузили его в карету четверкой, под управлением того же мертвецки бледного, но крепкого и верного кокни по имени Боггс, вступившегося за нас несколько недель назад в Лаймхаузе. За всё время путешествия я ни разу не вспоминал о нем, но был сердечно рад увидеть его снова. Мы поставили драгоценный ящик на сиденье, забрались в карету, захлопнули дверцу и тронулись, втроем внимательно осматривая улицы в ожидании возможного противника. Билли Стоддард и его пираты были за пределами этого мира, но оставался загадочный Люциус Ханиуэлл. Дядюшка Гилберт считал его безупречным. Но, как отметил Хасбро в наш первый вечер в картохранилище, плохих парней в команду яхты мог подсунуть только мистер Ханиуэлл, втершийся в доверие к сэру Гилберту, изощренному в бизнесе, но отчаянно доверчивому к своим друзьям или тем, кого считал таковыми. Хасбро держал под сюртуком заряженный пистолет и был готов пустить его в дело, если нам станут угрожать. Мне никогда не нравилось огнестрельное оружие, заряженное или нет, — совсем как ядовитые гадюки, — но таланты Хасбро по части стрельбы не раз спасали мне жизнь, и потому меня даже радовало, что носить пистолет ему не мешают никакие предрассудки.
